Хроническое соматоформное болевое расстройство — персистирующий болевой синдром длительностью ≥6 месяцев с выраженным дистрессом и нарушением функционирования, при котором клиническая картина объясняется дисрегуляцией болевой системы и психопатологическими механизмами, а не структурной соматоневрологической патологией, достаточной для объяснения тяжести боли. В номенклатуре МКБ‑10 кодируется как F45.4; в DSM‑5 соответствует подтипу «расстройство с соматическими симптомами — с преобладающей болью». Для психиатрии ключевы биопсихосоциальная природа, центральная сенситизация, аффективно‑когнитивные факторы поддержания (катастрофизация, тревога ожидания боли), поведенческие петли избегающего и «успокаивающего» поведения, а также высокая коморбидность с депрессией, тревогой и инсомнией.
Эпидемиология и бремя. Распространённость хронических болевых состояний в популяции достигает 20–30%, доля случаев с выраженными соматоформными механизмами по разным оценкам — 5–10%. Соотношение женщин и мужчин — 2:1; пик манифестации приходится на 25–55 лет. Расстройство ассоциировано с существенным снижением качества жизни, ограничением участия (работа, семья), ростом медицинского оверьюза (повторные консультации, избыточная диагностика), прямыми и косвенными экономическими потерями, а также повышенным суицидальным риском, особенно на фоне коморбидной депрессии и бессонницы.
Патофизиология. Ведущим механизмом является центральная сенситизация — устойчивое усиление ответов ноцицептивных путей ЦНС, приводящее к гипералгезии и аллодинии. Функциональная нейровизуализация демонстрирует гиперреактивность островковой и передней поясной коры (аффективная и интероцептивная переработка), дисбаланс префронтального топ‑даун контроля, повышенную связность сетей значимости при дискоординации сетей режима по умолчанию и исполнительного контроля. Нисходящие антиноцицептивные системы (серотонинергическая/норадренергическая модуляция) ослаблены; отмечаются глутаматергические сдвиги и нарушения ГАМК‑торможения. Хронический стресс и дисрегуляция HPA‑оси (варианты гипо‑/гиперкортизолемии) поддерживают сенситизацию, повышают тревожность и нарушают сон. Низкоуровневое нейровоспаление и микроглиальная активация обсуждаются как поддерживающие факторы. Когнитивно‑аффективные процессы (катастрофизация, селективное внимание к боли, ожидание угрозы) усиливают интероцептивную бдительность, повышают субъективную интенсивность болевых ощущений и снижают пороги восприятия.
МЕДИКИ СЕЙЧАС ВСЕ В ЭТОМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
Медицинский Работник
Психологические механизмы. Модель страха‑избегания описывает порочный круг: острый болевой эпизод → катастрофическая интерпретация («повреждение/угроза») → страх и гипербдительность → избегание активности и «успокаивающее» поведение (частые измерения, проверки, обращения) → декондиционирование, социальная изоляция, усиление депрессии/бессонницы → усиление боли. Ключевые элементы: негативное подкрепление избегания (кратковременное облегчение ценой хронификации), позитивное подкрепление ритуалов успокоения, руминативность, низкая толерантность к неопределённости, алекситимия, перфекционизм. Важна роль семейной/социальной валидации симптомов, вторичной выгоды и стигматизации психиатрической помощи.
Клиническая картина. Основная жалоба — стойкая, часто диффузная или региональная боль (спина, шея, голова, таз, висцеральная зона), несоразмерная наличной соматической находке. Часто присутствуют феномены гипералгезии/аллодинии, повышенная утомляемость, когнитивная утомляемость («brain fog»), вегетативная лабильность, нарушения сна (затруднённое засыпание, частые пробуждения, неосвежающий сон), тревожно‑депрессивные симптомы, раздражительность. Боль устойчиво снижает уровень активности и участия, формируя зависимость от ухода и медикаментов. Нередки сопутствующие функциональные соматические синдромы: синдром раздражённого кишечника, функциональная диспепсия, ортостатическая непереносимость без органики, хроническая тазовая боль, мигрень/головная боль напряжения.
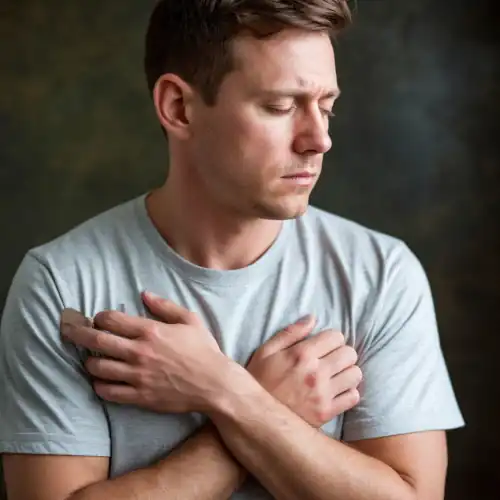
Коморбидность. Депрессивные расстройства (до 40–60%), генерализованная тревога и паническое расстройство (до 30–50%), расстройства сна (40–70%), посттравматическая симптоматика (10–20%), расстройства адаптации, употребление алкоголя/седативных. Хроническая боль повышает вероятность суицидальных мыслей и попыток; риск особенно велик при сочетании с инсомнией, катастрофизацией и алкогольной коморбидностью.
Диагностика. Диагноз клинический и опирается на:
- Длительность и диффузность боли, диспропорция между субъективной тяжестью и объективной соматической находкой, высокая психосоциальная нагрузка.
- Исключение «красных флагов» (острая травма, прогрессирующая неврологическая очаговость, системная инфекция/воспаление, онкологические признаки, тяжёлая эндокринопатия) и явной органической причины, достаточной для объяснения всей картины.
- Выявление аффективно‑когнитивных факторов: катастрофизация (Pain Catastrophizing Scale), тревога (GAD‑7), депрессия (PHQ‑9/BDI‑II), соматизация (PHQ‑15), нарушения сна (ISI/PSQI), общий болевой импакт (HIT‑6, MIDAS — при кефалгиях; Brief Pain Inventory).
- Оценка поведенческих паттернов: избегание, ритуалы успокоения, медицинский оверьюз, употребление анальгетиков/седативных, уровень активности.
Избыточная диагностика без клинических показаний противопоказана, так как усиливает тревогу и хронификацию.
Дифференциальная диагностика. Необходимо отличать: воспалительные/онкологические процессы, нейропатическую боль (радикулопатии, полинейропатии), миофасциальные синдромы с триггерными точками, ревматические заболевания (спондилоартриты, полимиалгия), эндокринные расстройства, побочные эффекты лекарств (статин‑миалгия), дефициты (B12), фибромиалгию (перекрывается и часто сосуществует), расстройства, связанные с употреблением опиоидов и гипералгезией, соматизированную депрессию, функциональные неврологические симптомы. Проверка на опиоид‑индуцированную гипералгезию у пациентов, длительно принимающих опиоиды, обязательна.
Лечение — интегрированная биопсихосоциальная стратегия.
1) Психообразование. Объяснение механизмов центральной сенситизации, роли внимания, ожиданий и поведения; акцент на тренируемость систем контроля боли; отказ от устрашающих формулировок; согласованный план с функциональными целями.
2) Психотерапия первой линии:
- Когнитивно‑поведенческая терапия: реструктуризация катастрофизации, снижение тревоги ожидания, поведенческая активация, градуированная экспозиция к активности, профилактика рецидивов; доказательно снижает интенсивность боли, дистресс и инвалидизацию.
- ACT/майндфулнесс (MBSR, MBCT): повышение психологической гибкости, снижение борьбы с симптомами, работа с ценностями и вовлечённостью в деятельность.
- CBT‑I при инсомнии: стабилизация циркадного ритма, ограничение времени в постели, стимул‑контроль, что опосредованно снижает болевую чувствительность.
- Биологическая обратная связь и релаксационные техники (HRV‑биофидбек, дыхание с резонансной частотой ~6/мин, прогрессивная мышечная релаксация) — улучшают вагус‑тонус и снижают аффективную реактивность.
3) Фармакотерапия (адъювантная, по психиатрическим показаниям): - СИОЗСН (дулоксетин 60–120 мг/сут, венлафаксин 75–225 мг/сут) — двойное действие на боль и аффект, хорошая доказательная база при хронической боли.
- ТЦА (амитриптилин 10–50 мг на ночь; нортриптилин при непереносимости) — эффективны при болевых и инсомнических кластерах, требуют мониторинга побочных эффектов.
- СИОЗС — при доминировании тревоги/депрессии; анальгетический эффект менее выражен, но полезен в сочетанных стратегиях.
- Габапентиноиды (прегабалин/габапентин) — при выраженной соматической тревоге, нарушениях сна, возможной нейропатической компоненте; титрация осторожная.
- Избегать опиоидов и длительных бензодиазепинов: риск зависимости, опиоид‑индуцированной гипералгезии, ухудшения вариабельности сердечного ритма, депрессии и когнитивных функций.
- Парацетамол/НПВП — только как короткий мост при обострениях, чтобы не формировать medication‑overuse.
4) Физическая и функциональная реабилитация: - Градуированная активность (graded activity) и «пейсинг»: поэтапное расширение нагрузки с малых доз, фокус на регулярности, а не на пиковых усилиях.
- Аэробные тренировки умеренной интенсивности ≥150 мин/нед, мягкая силовая и стабилизирующая работа, растяжки; коррекция осанки и двигательных стереотипов.
- Сенсомоторные техники: мягкие интероцептивные экспозиции, десенситизация к безвредным телесным сигналам.
5) Снижение медицинского оверьюза: - Чёткие диагностические границы, единая образовательная позиция команды, плановые контрольные точки исходов вместо повторных «успокаивающих» обследований.
6) Менеджмент сна и стресса: - CBT‑I, гигиена сна, ограничение кофеина/никотина, регулярный режим; стресс‑менеджмент и навыки внимания.
Маршрутизация и мультидисциплинарность. Наилучшие результаты достигаются при координации психиатра с врачом боли/неврологом, физиотерапевтом, клиническим психологом и при необходимости сомнологом/гастроэнтерологом. Ведение по модели «stepped care»: от базовых вмешательств к специализированным при недостаточном ответе. Важна единая, не противоречащая друг другу позиция специалистов, чтобы не усиливать тревогу и диагностический туризм.
Критерии эффективности. Целевые исходы: снижение боли и дистресса ≥30–50% от исходного; рост уровня участия (возврат к работе/обучению), уменьшение избегания и ритуалов успокоения; улучшение сна (ISI/PSQI), снижение катастрофизации (PCS), тревоги/депрессии (GAD‑7, PHQ‑9); повышение физической толерантности. Мониторинг каждые 4–8 недель с адаптацией плана.
Риск‑менеджмент и безопасность. Регулярный скрининг суицидальности (C‑SSRS), обсуждение планов безопасности, ограничение доступа к средствам само‑/гетероагрессии, рациональная фармакотерапия без седативной эскалации, коррекция употребления алкоголя. При длительном опиоидном анамнезе — стратегии депрескрайбинга с поддержкой и альтернативами. Важно использовать немаркирующую, нестигматизирующую лексику, подчёркивать реальность боли и возможность её модуляции тренируемыми механизмами.
Прогноз. Благоприятные предикторы: раннее начало комбинированной терапии, низкий уровень катастрофизации, умеренная длительность симптомов, сохранённая занятость и социальная поддержка, высокая приверженность и качественный терапевтический альянс. Неблагоприятные: длительная нелеченая инсомния, высокий уровень соматизации и диагностический оверьюз, злоупотребление анальгетиками/седативными, социальная нестабильность, выраженные личностные черты кластера C. Реалистичная цель — устойчивое снижение боли и дистресса, рост участия и качества жизни, профилактика рецидивов через поддерживающие модули терапии и регулярную физическую активность.
Итоговая клиническая позиция психиатрии — это хроническое болевое расстройство с доминантной ролью центральной сенситизации и аффективно‑когнитивных механизмов, требующее доказательно обоснованной интеграции психообразования, КПТ/ACT/майндфулнесс‑подходов, нормализации сна, градуированной физической активности и селективной фармакотерапии (преимущественно СИОЗСН/ТЦА) при строгом избегании седативно‑опиоидных стратегий. Фокус на функциональные исходы, единая междисциплинарная позиция и управление ожиданиями пациента формируют основу для долгосрочной стабилизации и снижения индивидуального и социального бремени заболевания.




